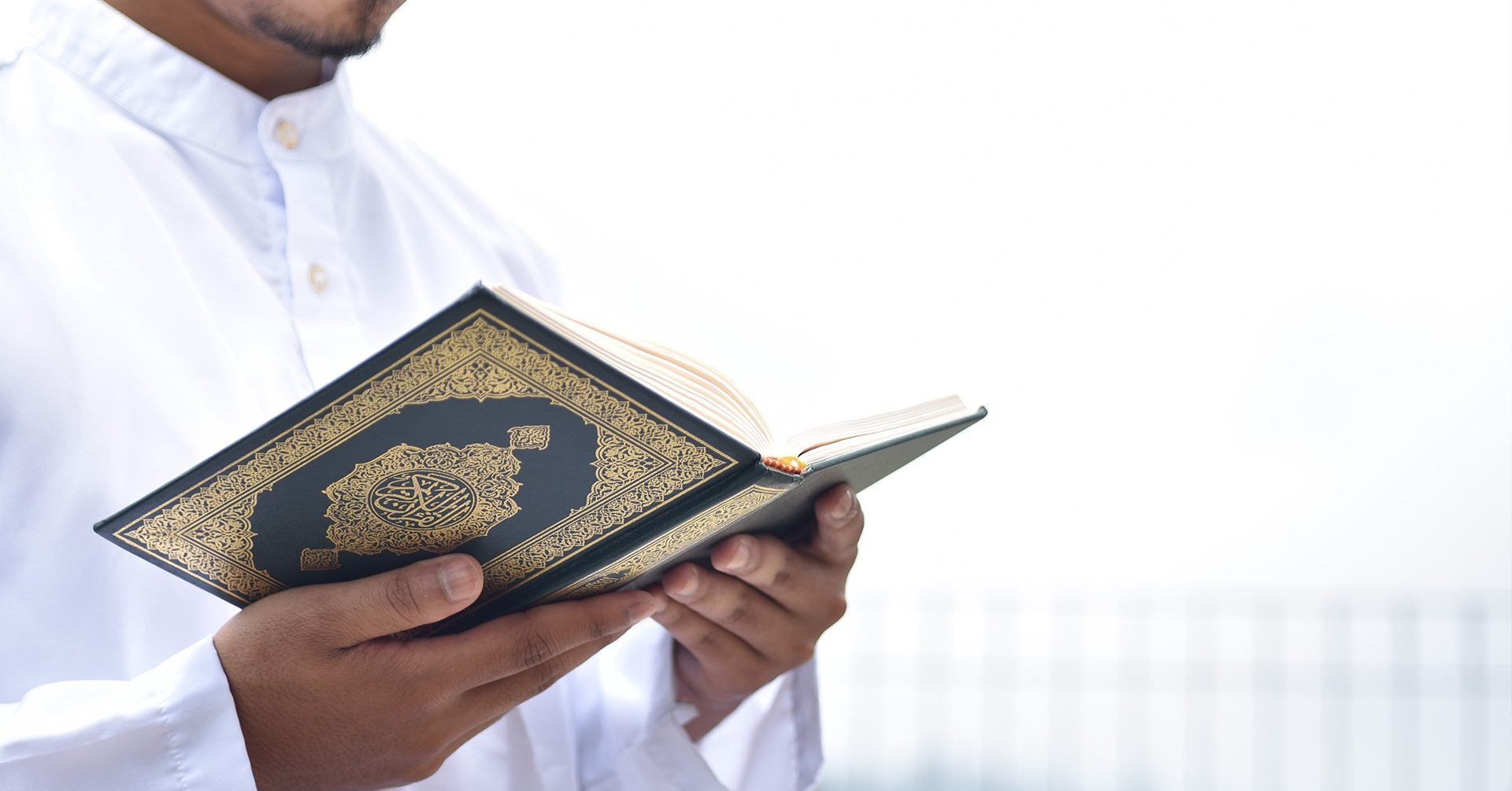Джихад, одно из важных понятий ислама, за пределами мусульманского мира окружён массой стереотипов. Мы проверили, как религиоведы понимают и интерпретируют эту концепцию.
Существует мнение, что в исламе выделяют большой джихад — борьбу верующего со своими страстями, и малый джихад, цель которого — война с неверными (газават). При этом нередко утверждается, что большой джихад по своей важности превосходит малый. Можно также встретить информацию, что до начала 1980-х годов малый джихад не объявлялся уже несколько веков. При этом современные радикальные исламистские группировки активно используют джихадистскую риторику.
Само по себе слово «джихад» переводится с арабского как «усердие, старание» и означает любое усилие человека по устроению своей жизни или жизни окружающих согласно воле Бога. Джихад может быть направлен на миссионерство, установление благополучия в мусульманской общине или борьбу с дурными помыслами и устремлениями — как собственными, так и коллективными. Подобные усилия далеко не всегда подразумевают выступление с оружием в руках или распространение установлений Бога насильственным путём.
Прежде чем перейти к анализу коранических контекстов необходимо сделать важное замечание. Коран не был ниспослан пророку Мухаммеду одномоментно: он получал божественные откровения на протяжении более чем 20 лет. За это время ислам превратился из воззрений небольшого гонимого сообщества в религию, объединившую все аравийские племена. Само собой, изменение положения мусульманской общины требовало новых регуляций, которые следовали в более поздних по времени ниспослания откровениях, также вошедших в Коран. Потому для понимания многих пассажей из священной книги мусульман необходимо учитывать обстоятельства их ниспослания — именно они зачастую проясняют контекст, в котором возникла та или иная установка.
Так и поступают комментаторы Корана: они принимают во внимание не только грамматику и синтаксис аятов (стихов) священной книги. Нам известна хронология сур (глав) Корана, которая не совпадает с их нумерацией. Суры в Коране, идущие после первой, «Открывающей», расположены по уменьшению объёма, а не по дате ниспослания. Традиционно суры привязываются ко времени жизни Мухаммеда и делятся на те, что были ниспосланы в Мекке (более ранние), и те, которые пришлись на период его жизни в Медине. При этом ряд положений уточнялся или изменялся по мере ниспослания Корана, как это произошло, например, с запретом на употребление алкоголя.
Анализ подобных изменений и уточнений привёл к формированию доктрины насха. Согласно этой доктрине, в том случае, если положения, зафиксированные в одном аяте, противоречат установкам другого аята, то необходимо обращаться к дате их ниспослания. В такой ситуации более поздний аят отменяет или уточняет положения более раннего. Важно отметить, что изменение могло приводить не только к ужесточению, но и иногда к смягчению. Кроме того, в ряде ситуаций вопрос «отмены» более раннего положения более поздним и по сей день остаётся дискуссионным.

В Коране термин «джихад», а также однокоренные слова встречаются 41 раз. Среди этих пассажей многие регулируют отношения мусульман с неверными, однако не все из них призывают именно к вооружённым способам решения конфликтов. К таковым, например, относится стих 25:52: «Не повинуйся неверным, но борись с ними великой борьбой при помощи этого» (перевод автора). Под «этим» большинство комментаторов понимают именно Коран и в целом трактуют данный аят как призыв не отступать в противостоянии с неверными, придерживаться установок Корана и бороться за распространение ислама. При толковании также принимается во внимание время ниспослания аята: он появился в мекканский период жизни Мухаммеда, когда мусульманская община была ещё слишком мала, чтобы давать отпор неверным с оружием в руках.
После переселения из Мекки в Медину мусульмане довольно быстро окрепли и стали важной политической и военной силой на Аравийском полуострове. Община под руководством Мухаммеда успешно вела борьбу с арабскими политеистами и имела возможность навязывать им свою позицию. Изменение статуса мусульман отразилось и в Коране. Именно к этому периоду относится ниспослание аята о мече (9:5, здесь и далее — в переводе И. Ю. Крачковского): «Избивайте многобожников, где их найдёте, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них во всяком скрытом месте! Если они обратились и выполняли молитву и давали очищение, то освободите им дорогу: ведь Аллах — прощающий, милосердный!» В данном случае речь идёт о вооружённой борьбе с неверными, целью которой служит их обращение в ислам.
Статус этого аята до сих пор остаётся поводом для споров среди знатоков Корана и мусульманских правоведов. Отменяет ли он положения ранее ниспосланных аятов на ту же тему, в частности призывающих мусульман к терпению перед лицом многобожников наподобие «Отвратись же от них и скажи: "Мир!" А потом они узнают» (Коран 43:89)? Эти вопросы — частные случаи более широкой дискуссии о количестве «отменённых» аятов. Так, авторитетный комментатор ан-Наххас (умер в 949 году) считал, что аят о мече отменяет положения 113 более ранних аятов, в то время как знаменитый специалист по Корану ас-Суйюти (умер в 1505 году) насчитывал всего 21 «отменённый» аят, отдельно отмечая, что аят о мече не отменяет действие аятов о терпении.
Толкование отдельных аятов о джихаде менялось с течением времени. К таким относится, например, аят 29:69: «А тех, которые усердствовали за нас, — мы поведём их по нашим путям. Поистине, Аллах, конечно, с добродеющими!» Ранние комментаторы VIII–IX веков под усердием в данном случае понимали добрые дела верующего и призыв к терпению, однако ряд комментаторов X–XI веков стали толковать этот пассаж иначе. По их мнению, в данном случае имеется в виду именно вооружённая борьба с неверными. Несмотря на то что большинство комментаторов всё же не видят в этом контексте никакого указания на насилие, данный пример демонстрирует, что и по поводу относительно «миролюбивых» аятов могут существовать дискуссии.

Автор: Amr Zakarya (Wikimedia Commons)
Теме джихада посвящён целый ряд хадисов — сообщений о пророке Мухаммеде, на основании которых устанавливается Сунна, второй после Корана источник права в исламе. Мусульманские правоведы считают, что положения, изложенные в хадисах, раскрывают, дополняют и проясняют установки Корана. В авторитетных суннитских сборниках хадисов мы находим как воинственные, так и миролюбивые контексты описания джихада. В одном из хадисов говорится, что если человек умирает, так и не сразившись с неверным и не чувствуя в себе обязанности к этому, то он умирает лицемерно. В другом хадисе Мухаммед называет лучшим видом джихада тот, при котором муж проливает кровь, а его лошадь ранена.
Впрочем, не все хадисы о джихаде наполнены воинственной риторикой. Участнику борьбы с неверными прощаются все грехи. Джихад нужно вести и словом, и делом, и жертвуя своё имущество. В одном из высказываний Мухаммед называет джихад третьим по важности среди благих деяний верующего после выполнения обязательных молитв и заботы о родителях. С другой стороны, попечение над родителями ценится выше, чем борьба с неверными: так, пророк советует человеку сосредоточиться на этом вместо того, чтобы принимать участие в джихаде. Женщины, дети, старики и больные освобождены от обязанности бороться за веру, поскольку «их джихад — это паломничество в Мекку».
Начиная с первых столетий ислама, в мусульманском мире складывается специальный тип литературы, посвящённый правилам и доблестям джихада. Авторы таких сочинений, отталкиваясь от установок Корана и Сунны, представляют широкую палитру мнений относительно отношений с неверными, будь то в мирном или в военном контексте. Интересную деталь эволюции общественного мнения относительно правомочности джихада отмечает исследовательница Асма Афсаруддин. Она подчёркивает, что если на ранних этапах мусульманской истории в таких сочинениях можно встретить как «миролюбивые», так и «военные» понимания джихада, то с течением времени джихад начинает пониматься исключительно с военной точки зрения. Подобная смена вектора обычно объясняется тем, что мусульманские государства становились всё более уязвимыми в борьбе с внешними и внутренними врагами, отчего им требовалась добровольная помощь борцов за веру.
Вполне вероятно, что в качестве альтернативы исключительно военному толкованию борьбы за веру примерно с середины VIII века возникает и укрепляется концепция двух джихадов. Она опирается на хадис, в котором пророк обращается к вернувшимся из военного похода мусульманам: «Сегодня вы вернулись с малого джихада и переходите к большому джихаду». Далее Мухаммед поясняет, что под большим джихадом он понимает борьбу верующего со своими страстями. Хотя этот хадис не встречается в авторитетных сборниках, а ряд знаменитых богословов и правоведов (к слову, консервативных в своих суждениях) ставят под сомнение его аутентичность, он встречается в сборниках морализаторской направленности.
Популярность этой концепции связана с распространением аскетико-мистического мировосприятия в мусульманском мире и развитием суфийского учения. Знаменитый аскет Абдаллах ибн аль-Мубарак (умер в 797 году), одновременно сочетавший в себе подвижнические и военные доблести (за что получил прозвище «ведущий две войны»), в своей книге о джихаде утверждает: настоящий воин — тот, кто сражается с проявлениями своей низкой души. В дальнейшем концепция борьбы верующего со своими страстями получает развитие в суфийской литературе, а с расширением влияния суфизма проникает и в набор общемусульманских этических установок. Ключевым автором, которому успешно удалось инкорпорировать морализаторские установки суфиев в число похвальных качеств верующего, становится знаменитый богослов и законовед Абу Хамид аль-Газали (умер в 1111 году). В своём фундаментальном труде «Воскрешение религиозных наук» он выводит на первый план именно борьбу с собственными страстями, украшая свои рассуждения воинственной риторикой. Интересно, что аль-Газали заканчивал это сочинение в годы первого крестового похода, по итогам которого мусульмане уступили значительные территории крестоносцам.

В целом ошибочно было бы утверждать, что любое из толкований джихада — военное или мирное — считается главным. Пассажи из Корана и хадисов не дают однозначного ответа на этот вопрос и предоставляют широкое поле для толкований: поскольку в исламе отсутствует институт церкви в его христианском понимании (подробнее об этом мы писали здесь), любое толкование священного текста подкрепляется лишь авторитетом комментатора. Кроме того, эти толкования не находятся «в вакууме» и зачастую реагируют на внешние события. Так, военное понимание джихада закрепилось в тот момент, когда мусульманский мир нуждался в постоянном притоке новобранцев (например, на границе с Византией).
Объявление джихада продолжает использоваться как политический инструмент. Под лозунгом борьбы с неверными поднимались антиколониальные выступления в Алжире и Ливии. В начале Первой мировой войны Османская империя объявила джихад в расчёте на то, что мусульманские подданные стран Антанты поднимут восстание против своих нынешних правителей (вполне вероятно, что одной из причин Сингапурского восстания в 1915 году была османская пропаганда). В 2010 году глава Ливии Муаммар Каддафи объявил джихад «против Швейцарии, сионизма и иностранной агрессии». Идеологи современных фундаменталистских и джихадистских группировок используют радикальные толкования Корана и хадисов для обоснования своей деятельности. При этом целый ряд современных мусульманских мыслителей (например, опальный турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен или пакистанский философ Фазлур Рахман Малик) понимают джихад исключительно в морально-этическом плане.
Впрочем, в политическом дискурсе джихад используется не только для оправдания военных действий, но и для мобилизации ради мирных целей. Например, лидер Исламской революции в Иране аятолла Рухолла Хомейни после победы революционных сил объявил восстановительный джихад, целью которого был подъём сельского хозяйства в стране (сейчас в Иране действует министерство сельскохозяйственного джихада). Первый президент Туниса Хабиб Бургиба использовал риторику джихада как мобилизационный фактор при проведении экономических реформ. Даже в эпоху модернизма религиозные концепты и символы обладают среди мусульман мощным потенциалом, способным сподвигнуть их как на конструктивные свершения, так и на деструктивные.
Заблуждение
- A. Afsaruddin. Striving in the Path of God: Jihad and Martyrdom in Islamic Thought
- M. Bonner. Jihad in Islamic History: Doctrines and Practice
- BBC. Religions: Jihad
Если вы обнаружили орфографическую или грамматическую ошибку, пожалуйста, сообщите нам об этом, выделив текст с ошибкой и нажав Ctrl+Enter.